
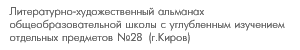
 |
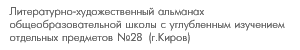 |
||
| Зерцало учености
Поэзия ВЯТЛАГа: два мира, две судьбы (Валентин Тимофеев – Валерий Буш) (Фрагмент исследовательской работы)
Два, явно незаурядных, человека по ту и другую сторону колючей проволоки. Две судьбы, преломленные драматизмом советской лагерной эпохи в масштабах ВЯТЛАГа. Представим их: Валентин Тимофеев – вооруженный охранник, «вертухай», маленький начальник, имевший личный кабинет в одной из зон, одержимый страстной, но тайной идеей – быть удостоенным сталинской премией за свои стихи. Его жизненный путь мне неизвестен, все сведения о нем я нашла в его стихах. Второй – Валерий Буш – заключенный, человек умаленный в правах, но сохранивший дух свободы и дар стихотворца. Случайно, чудом, через десятилетия до нас дошли тетрадки со стихами, которые можно назвать и дневниками, и летописью, и документами эпохи, так как по ним прочитывается судьба как рассматриваемых мною личностей, так и судьба всей страны. Эти тетрадки уникальны, хотя бы потому, что их до сего дня раскрывали только близкие родственники, но в них документально запечатлена судьба Отечества в «грозовые сороковые».
Глава II. Тема отношения к своему «ремеслу» и выведение его смысла
1. Валентин Тимофеев
Понятно, что на лесоповале Тимофеев не утруждён рабскими полномочиями исполнителя, он – Отстранённый от рабов-заключённых, и как бы планово покровительствующий им, по-начальнически ожидающий от них дисциплины, осознания и глупостей, цинично-поучительно оценивающий их работу как вполне добротную: Пилить дрова не так уж плохо Особенно в лесу густом Где много зелени и моха Муравьи комар кругом. Но примечательно, что он представляет себя, а не рабочих «притоком», главным работником «домашнего» вятлаговского хозяйства, отгораживая в нём для себя эксплуатируемый «огородик»: А поэтому на нашем огороде Не поздоровится иной свинье. Ведь выполнение заготовочного плана сулит ему приобретение своеобразной стендовой служилой чести, и Тимофеев понимает, что она умаляется всякий раз, когда заключённые вздумают совершить правонарушение. И эта обратная зависимость не позволит вертухаю закрепить за собой ни метра, ни клочочка казенной земли в элитной стройке социализма. За что же? Почему он преданно ищет в ней животворящий, ассоциативный смысл? Он знает, как больно рождение ещё неубедительного доказательства величия Системы и боится того, что зэки сделают заклейменную властью оговорку на её невозможность более существенной. Тимофеев увлечён этой игрой-мистерией, но лагерь рабства – огороженный выгон для его истинно гражданских чувств и плохое место для естественных подвигов на фоне трудового равнодушия заключённых. В стихе автор выражает себе не через «я», а через «мы». В этом и заслуга коммунистической идеологии, когда отдельный человек, казалось бы, задушевно, бодряще сращён с толпой, но в то же время он интуитивно прячет, сберегает что-то дерзкое или сочное личностное за этим «мы», подсознательно предполагая, что именно его подпись под общим призывом, как-нибудь выделившись среди прочих, затрётся. Значит, Тимофееву желательно не просто самолично выговорить новые истины государства. Почему же? Возможно, благоговение перед «великими» не даёт права вмешиваться, а, может, лицемерить самоустно пока ещё кажется подлым, и это просвет. Просвет в той вроде бы безукоризненной убеждённости автора, по которой видно, что «вертухаевы одёжы» ему жмут. Успокаивается он ощущением своей ответственности за планетарные ценности страны, тревожащие его и не дающие ощущения личного пространства: С утра звонки по телефону Напиться чаю не дают Но я привык к такому звону Они так весело поют Случится всё конечно может Но больше без толку звонят Звонок когда-нибудь поможет Когда уж сам себе не рад.
Чувствуется, что Тимофеев хорошо запоминает минуты уединения в своём кабинете, потому что они позволяют ему ценнейшую пассивность относительно очень неоднозначной стороны его службы с её обязанностями, прислуживаниями начальству, ожиданием дневных пробежек до плановых пунктов, хлопотами и желаемыми поручениями. Поток бесконечных текущих новостей, имён по телефону и со всех сторон способен обезличивать Тимофеева, говоря прозу злободневности, до ужаса и смятения им полюбленную. В работу Тимофеев вкладывает слишком много душевного рвения и осмысления, что указывает на склонность его усложнять обстоятельства. Но это не вызывает у него никаких подозрений относительно её несправедливости, потому что работа побуждает его к жизни, ремесло проникло и в её неслужебные сферы. На оборону миллиарды Ассигновано рублей Так зарубите это гады На носу своём, скорей
Кажется, что Тимофеев одобряет мнительность и скупость власти в отношении к делам простой провинциальной и бедной России, так как готов защищать её наружное обрастание капиталом. Он активен, предусмотрителен и заблуждён относительно советской вечности:
Нам нужно сделать и немало Различных ценностей машин Чтобы всего вполне хватало И не на этот день один.
«Ремесло» Тимофеева позволяет проявить ему свои лучшие организаторские способности, вероятно, что со служебными обязанностями он в полном согласии: Мы взяли план <…> И сдали за тридцать дней В порядок чисто идеальный Привели коров, свиней И за качеством следили Чтоб в этом не было прорех Чтобы продукты наши были Вкусней и лучше всех.
И так, можно сделать вывод. Валентин Тимофеев, используя старомодные способы, пытается наполнить модернизированную правду общества какой-то до боли привычной оговоркой, оговоркой на примерность и геройство всякого простолюдина-жертвенника – во своё спасение. И он вряд ли уценит то правило, что наглядность в нашей жизни есть самое достоверное, поручающееся и ненавидимое нами. Так и его рабочая поэзия почти как рапорт, поверхностный, всегда готовый отвратить от себя любое подозрение в измене государству. Несомненно, что смысл ремесла всего лагеря он подслушивает в рекламно-партийных лозунгах, которые разносит многозвучным и ширящимся эхом до, как он считает, «простых смертных». Тимофеев убежден, что партия доверила ему если не пророчество правды, то, по крайней мере, выхваляющуюся драму во всей ее сложности. И он не против поучать «слепцов», не против и быть среди них. Я же считаю, что он просто учиться прямо и щеголевато держать спину, чтобы стать ещё одной физически полезной советской единицей.
2. Валерий Буш Ляжешь в десять, поднимешься в три, И грызёшь, и грызёшь древесину. Очень интересно, что Валерий Буш не упускает временного, почасового значения жизни, её посекундных взносов за подогретую надежду. Его внимание к суточным движениям, а не к вечности символизирует то, что он как бы лишь засиживается в тюрьме впопыхах и неусидчиво перед каким-то грандиозным переходом действительно в новое. И в лагере он заново осмысливает уже пройденные этапы своей поэзии, вынашивая идеи спасения, злобно выполняя рабочий план, не растрачиваясь на своё успокоение. Зачем? Жить он будет после. Буш «по-домоседски» не стремится выйти из того предубеждения о жизни, что взрастил ещё на воле, в этом постоянстве и вере в намеченное есть его принципиальное, даже какое-то совсем советское упрямство, сила, выигрывающая у партийного пролетариата, потому что выведенная им самим. Поэтому вполне естественно непринятие Бушем теории о том, что он словно бы исправляет свою преступную спесь во благо, нанося штрихи новой великой эпохи государства. Ведь он один из тысяч поверенных в эту дремучую ложь коммунистического идеала: Прёт с лучками в морозный туман Ледяными лесными дорогами На кобыле хозяину план.
Буш знает, что они вместо спасения обескровливают ими уже проклинаемую страну и что его праведное отвращение к сделке с государством когда-нибудь зачтётся ему как вера, польза, борьба за жизни. Кроме того, Буша задевает полная безоценочность труда заключённых:
Вам бы строить чужими руками Тех, кто в лагерь заброшен на срок. А в газетах вы строите сами И про нас, заключённых молчок.
То, что властители, присваивая результаты и его «ремесла», начищают парадную «форму» коммунизму, оставляя заключённым лишь всё предшествующее их Общей с народом победой, но не победу, не может не возмущать Буша.
Жжёт в пути мороз нежравших Но дыханье греет… Вдалеке огонь мигает – Как ему мы рады!
Но здесь просматривается и некий обратный адаптационный эффект обессилевшего сопротивления заключению, когда в безымянном и покалеченном существовании Буш начинает искать привязанность и отраду, обманчивое мимолётное и появляющееся только в минуты самого неотвратимого надрыва утешение. И это утешение – огонь ждущего забвения, появляющегося в минуты отдыха от неблагодарного подражания Сизифу, который-то, однако, спускаясь с горы, не утрачивает гордый образ человека:
Конвоиры-гады Гонят хуже злой собаки В лагерные зоны, За колючкою бараки, Заключённых стоны.
Так и Буш душой и разумом отходит от грубых и для него бессмысленных задач «ремесла» свободной и старчески-мудрой поступью к радостному ощущению в себе внутреннего Человека. Поэтому Валерий Буш видит вокруг себя, в каждом жесте, слове угнетателей всемирную несправедливость, которая сводится к одному – отобрать у него его сокровенное личное право на человечность: Крепостные, без права любить, Заключённые хуже скотины.
Он заносчив и вознесен собой, но в среде несвойственной ему грязи всё же не избегает действия на себя общего дурмана, зверства и укрывается сам манерной накидкой человека, воспитанного в новаторском духе коммунизма. Но понятно, что обвинять его в этом несправедливо. Буш умело создаёт образ репрессированного человечества в лице маленьких человечков, погубленных (себя он к ним всё-таки не относит), заслуживающих самого неумеренного защитника, коим и является в душе Буш:
Искалечили зеков, угробили, Запугали, кто слабым пришёл, Веру вышибли, душу озлобили Беззаконие и произвол.
Буш как крестьянский ремесленник жалуется ещё и на условия труда, словно бы подтрунивая над тем, что власть, засадившая его сюда, не смогла достичь элементарного – материального обеспечения на производстве. И если вертухай боится в качестве конечной идеи новой отстройки страны, сетуя на беспомощность чёрнорабочих, то они, напротив, убеждены в полной и местами комичной некомпетентности служак. Буш с упоением и иронией тоже заключает взаимозависимость заключённых и их «граждан-начальников», осмеивая привилегии свободы советских «ищеек», проводя мысль, что «стражи» зеков точно такие же заключённые, только вдобавок ещё находящиеся в заблуждении относительно совей незаменимости: В лагерях за побег заключённого Конвоиру дают его срок. Рабочая, деловая атмосфера лагеря и не может быть спокойной, так как идеологическая сила заключённых смущает и раздражает начальство и более мелких исполнителей, чья абсурдная партийная правда, в свою очередь, уже самих зеков доводит до исступления. Надо отметить и то, что Валерий Буш тоже часто покрывается значением «мы» в своей трудовой поэзии. Но навеяно это отнюдь не недоверием своим умозаключениям, не обозначает сгибы в сторону массы и вряд ли должно скинуть уникальную ответственность от сказанного им. Нет, так автор выражает своё уважение свободному духовно обществу, с коим состоит в неписаном заговоре. И чем более у Тимофеева употребление «мы» является приличествующим, должным воздать благоговение его перед авторитетами, тем у Буша боле самонадеянным и индивидуальным. И если первый чувствует, что его лагерное ремесло охранника отодвигает его от народа, ставит во властную позу, что одновременно и ободряет и пугает его, то второй же воспринимает свое положение зека как эффективное проникновение к народной совести и к своей тоже, что может дать ему бразды местного лидерства на свободе, но и определённо нереальные замыслы. Интересно, однако, то, что все-таки поверив своим представления о жизни как Заключенного, ненавидя и оправдывая их, Буш приходит осторожно к осознанию русско-национальной идеи необходимости определённого молчания и смирения перед угнетателями. Я заметила, что такая идея самоопровержения не редка для поэзии Буша: Не томи меня, дума тяжёлая, Возврати мне мой прежний уют, Доля выпала, пусть, невесёлая, Но и с нею на свете живут. Итак, гражданская поэзия Валерия Буша являет собой очень яркий образец реализма высокого психологического уровня. Заключение Индивидуальное творчество, в том числе поэзия, являются ключом к пониманию самых сложных времен в развитии человечества. На примерах поэзии Тимофеева и Буша я старалась раскрыть проблему совместимости противоположных и разнозрелых идеологий в условиях процветания одной и преследования другой. Я обнаружила, что поэтическая форма жизненной линии моих героев была изначально правдивым и самостоятельным их успехом. Рассматривая в лице Валерия Буша весь лагерь оппозиционеров советской власти в России, я выявила граждански осмысленное, трезвое понимание действительности, гордое стремление к претворению в жизнь репрессированных идей и уверенность в невозможность послелагерного смирения и вступления в советские рати. Поэзия Буша оказалась неким полужаргонным философским архивом его судьбы, очень впечатляющим и исповедальным, но, однако, вобравшим в себя глобальные штампы, внушения времени. В лице же В.Тимофеева, рассматривая основную часть российского общества социалистических энтузиастских начал, я выявила политическую и деловую выслужливость, малоопрактикованную иллюзию истины, патриотическое рвение при духовной слабости. Поэзия Тимофеева, не богатая на личные темы, оказалась своенравным самопризнанием в обожествлении им советских реликвий. Интересно и то, что мои герои, находясь по разные стороны решетки, составили себе правды-синонимы, основанные на взыскательном поэтическом мериле. |