
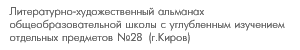
 |
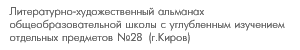 |
||
| К литературному Олимпу Ирина Агафонцева Дома у Анны «Кто она?» - я спросил после, когда мы вышли. «Она?» - ты пожал плечами. «Никто. Для тебя - богиня». Иосиф Бродский, «Вертумн». У меня мутное стекло, дождь и снег, иногда птицы бьются, но фонари смотрятся в него, и, выходит, не фонари, а паутина. Зыбкая, отражается в мокром асфальте, разорванная с левого края. На прилавке раритетов покоятся горьковские очки, такие круглые, без одного стекла. Следы остаются на снегу, под которым асфальт, в котором иногда отражается паутина из моего окна, но уже весна, и поэтому следы на снегу не задерживаются. Обезглавленный и обезоруженный фонарь стоит, один такой, воткнувшийся в снег, и не дает света. Но – alle warten auf das Licht. Почему-то. Но – снег имеет противное свойство: он может растаять. И все фонари тогда остаются не у дел. На асфальте, когда он без снега, можно разглядеть белые полоски. Значит, можно идти. Тоже своего рода das Licht. Без конца туннеля. На подоконнике стоят увядшие цветы. Правильно стоят, в вазе. Засохли. Мы когда-то давно въехали в Юг на разбитой машине, на ее крыше только не было снега, потому что и у нас без всякого юга было лето. Куда мы ехали? Очень долго, две длинные ночи. Одну ночь я смотрела в небо, там была круглая луна, она наверняка отражается в крыше, но я не видела, потому что не на крыше все-таки. Как у машины называется крыша? Луна за целую ночь сделала целый круг над нашими с тобой головами, скрытыми за этой не-знаю-как-правильно-называется-крышей. А теперь – без конца туннели, и ни черта не разглядишь, потому что не небо. Я закрываю глаза листьями какого-то дерева, но все вижу, потому что на ладони нарисовала глаза грязного цвета лиловым химическим карандашом, и теперь он не смывается ничем. Понимаешь, можно все увидеть и с закрытыми глазами. Мне всегда говорили, что луна не ходит по кругу. Остановились на автозаправке. Какая-то девочка стояла ближе всех ко мне. Я спросила: - У тебя есть псевдоним? У меня есть. - Ты взяла его с собой? Я девочке ничего не сказала. С собой я ношу только имя. Мы теперь никуда не едем. Точнее, так: я у себя. Мне пока ничего не надо. Пытаюсь доказать, что я не из тех, кому хорошо, где нас нет. Только доказывать некому. Никого нет дома. Поезда с гудками, гулкими и гудящими на лады горна и общеоркестровой флейты с почему-то мужским голосом, басом, наверное, не разбираюсь, – проносятся мимо, но нам-то что с того. Мы на машине въезжаем в юга с большекрылыми и большебелыми птицами. Там птицы, видимо, круглый год. Куда еще лететь, если ты и так в парадизе. Ты вошла в мою комнату, когда я спала. Сколько лет я прошу не мешать мне, когда я сплю. А ты вошла и смотришь на меня. Мне снился сон, длинный, тягучая патока, горькая, с крошками табака и жеванными листьями какао-дерева. Откуда не вырваться так просто. Я знаю, кто это был, но тебе ни за что не скажу. Он мне часто снится, но ему я тоже ничего не скажу. Редко смотрю ему в глаза. Смотрела. А вдруг отвела взгляд куда-то вверх и налево, и увидела твой. Порезалась кусками твоих глаз. А почему у меня не зеленые? Проснулась. Открыла. Просила ведь не мешать. С ним я тоже буду говорить, но о чем-нибудь другом поговорю. Мне еще многие сны снятся, только никто не будит. А один раз приснилось, что говорю мужским голосом, как та флейта, на ней в оркестре всяк играет, на которую похож фальшивый и искривившийся, как фонарь без головы, гудок поезда. Но это был такой хитроумный обман, который сам раскрылся. Может быть, в этом и хитрость? Цветы шоколадного напитка дерева так раскрываются, а в них плоды. Может быть, это как-то по-другому происходит, но у меня был только один бесплодный цветок, потому что сон вдруг быстро закончился. А цветам, даже если и предсказано, и план по сбору плодов еще зимой составили, и банок наготовили, и крышек, и страждущие уже тянут жилистые руки с опустошенными ночным, иногда – утренним, страданием чашками и кружками (не спрашивай, какая разница, надоело объяснять), не страшно быть пустыми и полыми. Потому что цветы, а не какой-нибудь человек. И, кстати, они не все цветы этого странного дерева. Разные бывают. А тем и тем более не страшно. Пробовал смотреть на луну сквозь пальцы? На все остальное – строжайше запрещено. Не мною, я смотрю. А кто-то не верит в ночные озарения. А табак добавляют в духи, может быть, и кофе тоже, и какао тогда должны, не думаешь? Я вообще-то ни кофе не пью, ни какао, тем более – с молоком. Но у меня стоит флакон духов на столике, бутылочка – фигурка Марии Антуанетты, а голова откручивается. Каждый день. Это очень страшно, да и больно, наверное, если тебе каждый день откручивают голову, а потом силой ввинчивают обратно. Моему фонарю в этом смысле повезло больше. Ты как думаешь, можно назвать это везением? А бывшей царствующей королеве ничего – духи всего лишь. Я просто запах каждый день смываю водой, но заметила, что он от этого становится только резче. Север я больше не меняю на юг. Дома одна. Спать ложусь. А фонарь так и стоит. Крошки табака не во сне, а на губах и вокруг рта, и ладони пахнут белокружечным и белочашечным с блюдцем напитком – кофейная сигара из киоска за углом. На сны. А машины по утрам ездят все пустые, и не все разбитые. А луны уже нет. Спит, как и я. Узнай, пожалуйста, что она хочет увидеть завтра. Снег предательски растаял.
Ты все обязательно вспомнишь дома у Анны. Все твои сны отразятся как в зеркале, луч света преломи. Одни образы наплывают на другие, поглащают, заменяют и так медленно и горбато-грациозно отходят в сторону, чтобы потом заново вцепиться зубами и когтями. Одно цепляется за другое, идет кругами, выходит – спираль, что тоже паутина, смотря как ты будешь смотреть. Учил историю в школе? Она насильно женила Голицына, которого в учебниках для среднего, временами старшего, школьного возраста с плешью и в очках, иногда, правда, со всеми стеклами, и уже не горьковскими – мода изменчива, историки упорно величают придворным шутом, что, согласись, сомнительная честь весьма. Но женила на шутихе, может быть, это дает им какие-то основания, а вслед за тем – и оправдания? Брачная – у обоих, очевидно, не первая, но давай не будем вдаваться в такие подробности, и грязно смаковать их не хочу, – ночь в ледяном доме. Приставили часовых. Ночью стало еще холоднее, сначала умоляли выпустить, а потом уже и проклинали ружейных и на часах. Пытались, не смейся, это жестоко, разбить стены. Наверное, это страшно – локтями и ободранными в кровь кулаками биться в лед, и видеть в стенах отражение, искаженного лица и своих бьющихся рук, бьющих о стены, и видеть, что только больше крови на ладонях, и, наверное, вовек не уйти от нее. Кто-то передал фляжку с вином. Утром их нашли чуть живыми. А потом Анна умерла. Князь Голицын уехал в деревню. Какая тебе разница, что стало с его женой?
А потом все забывается. Дом изо льда, который весной обязательно растает. Мне обещали.
|