
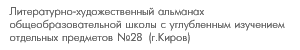
 |
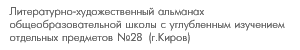 |
||
К литературному Олимпу Ирина Агафонцева, 10 класс
au mois d’octobre
была осень и листья. ветер порывами, он взметал в воздух целыми стаями liberation, они долго кружили передовицами и, наконец, рассыпались по асфальту, и жак улыбался под ногами, и сознательные граждане обходили его стороной. луи уже не подсчитывал убытки – тоже грустил весь день. он уже не ловил свои journaux. они летали птицами, ветер рвал их страницы, изгибал в boules и просто самолетики, но чтобы кто-нибудь, не заметив, проехал на велосипеде – и от них оставались тонкие остовы, как вырванные перья. от них оставались белые контуры (раньше я думала, что душа имеет форму моего тела, только значительно тоньше, контур), а наутро исчезали. в самом париже листья были только красные, а в моем квартале только желтые. моя хозяйка, когда составляла букеты (букетами из листьев она уставила всю мою квартиру), гуляла по marais. этой осенью она любила говорить о том, как это странно, что листья разные, а я говорила, что листья всегда разные. очень часто мне хотелось быть одной, а ей хотелось играть в шахматы, потому что до меня несколько лет как ей не с кем было поговорить. я всегда проигрывала. когда следующим утром я шла к луи, то неизменно попадала в его вихрь листьев и страниц. couvertures оставались в памяти, если я забирала их с собой, листья прилипали к пальто и волосам. красные кленовые, если попадались среди них, то моя хозяйка непременно использовала их для букета, и скоро наших ваз стало не хватать. если не шахматы, то игры русской интеллигенции. мне оставалось жить здесь еще месяцев восемь, я стучала каблуками по набережной. по rue de grenelle и rue du cherche-midi. я делала дома бутерброды с сыром. я практически ничего не писала, просто сидела, со всех сторон кленовые листья. невозможность писать для меня очень скоро превратилась в привычку и стала обыкновенна. я сначала думала об этом, а потом любая мысль стала тяжела, и я даже выбросила свою шариковую ручку. в те дни, наверное, я просто ничего не чувствовала, потому что ничего не могла выразить. сопротивляясь любому проявлению жизни, я умерла задолго до того, как увидела париж. а когда смотрела, то остановившимся взглядом. из carrefour de l’odeon листья в вазах стояли вместе с хризантемами. скоро мне можно было уехать. было четыре часа, я наливала воду в стакан, когда раздался звонок. телефонистка по-французски. я подносила стакан к губам, а мне по-русски сказали, кажется, улыбаясь, что можно, но чтобы никто не знал. не во франции, а там. стакан разбился, и ma maоtresse de maison еще долго собирала осколки, даже из-под шкафа, и, наверное, сделала коллаж.
помню, как однажды стояла на мосту pont des arts, кто-то писал пролив, а у меня шампанское, и хлебом кормила уток. до сих пор не знаю, как они туда попали. утки не улетали, просто плавали, серые. кусок хлеба, и за мной проходил, не заметив, один знакомый парижанин. его девушка позировала какому-то художнику, из уличных, они в сквотах, а в галереях даже не выставляются; у того картины стояли на асфальте, прислоненные к ограде моста. на одной из них была статуя, французский щедрый дар, и эта пара, смеясь, перекинулась парой фраз
...elle doit rester lа-bas jusqu’а ce qu’on lui permette de partir.* _____________________________ *ей придётся остаться там до тех пор, пока ей не разрешат уйти.
Те, кому я Отдаю так много, всего мне больше Мук причиняют. (Сафо) Запасный в. К счастью, мы все еще находим с тобой точки соприкосновения. Потому что. Любовь - это так, а может быть так. По-разному может быть. Чаще всего сопряжена с одиночеством и страданием, с невыносимой болью, той, что не дает сомкнуть налитые влажным свинцом веки, сиреневые веки, заставляет оглядываться и повсюду искать твои черты. Потому что ты рассеяна по всему городу и очень хочу тебя обезличить – между писателем и писательницей не должно быть разницы, потому ты везде, во мне тоже есть твоя частица. И на берегу моря надо оказаться зимой, а я напоминаю тебе твою маму, но, наверное, все же это не так, потому что я так решила... Город серый и сам обезличен до крайности, значит ли это, что мы растворены в нем все, без остатка? Мы же так хотели быть собой, даже те, кто в этом не признавался. А теперь толпа, и город нельзя любить просто так, каменные стены. Я смотрю на все странно-отчужденным взглядом, и мне действительно странно, что ты меня еще узнаешь.
* * * Пальцы мерзнут, потому что перчатка без пальцев. Я думаю – зачем все объяснять? Ты знаешь, я не люблю вопросительные знаки, они кривые и вопрошающие. Мне говорят о многом, но почему я должна соглашаться, тем более оправдываться? А когда-то я хотела написать не звуковую книгу, но книгу звуков. Для себя я это принимаю, потому не буду объясняться. А ты их слушаешь, даже каждый вечер, но они не мои, и я думаю, что, жертвуя собой, я еще более привяжу тебя к себе, одновременно не желая этого, потому что свобода... о ней поются блюзы. Любовь многогранна. Я знаю, о ней можно сказать двумя предложениями, но я так не умею. Я думаю сказать тебе, что чувствую, но чувства мои также многогранны и разнообразны, сиюминутные даже можно коллекционировать, и у меня много бабочек: индиго с большими крыльями – это грусть, а та зеленая с недостающим четвертым – не знаю, кажется, грусть. Тропическая, сатир... Но странно, меланхолия. Мои ч. бывают другими? Я не хочу с тобой расставаться. Помнишь, как мы искали выход?
Другая история Вид должен быть скучным, чтобы не отвлекал. Из окна. Три ступеньки ведут на асфальт, но можно и не выходить. Она же спустилась вниз и, низко опустив голову, чуть быстрее, чем обычно – верно, сказывалась напряженность последних дней... – ей следует немного вперед и налево. Еще десять ступеней. Иногда ей казалось, что мир только и состоит, что из ступеней; они ведут вниз и наверх, а все же хотелось бы прийти к разумному компромиссу. Жизнь тоже состоит из спусков и подъемов, но ей хотелось договориться с собой, хотя бы на один вечер оставить всю себя, уйти, не терзать. Вот чем, например, сегодняшний плох? Поправила слегка сползший на глаза берет, полосатый, и вскоре исчезла из виду. Нет, кажется еще не сегодня. Она отчетливо осознала это в тот самый момент, когда дверь, заскрипев, на секунду вообразив себя вечной шарманкой, обнаружила за собой абсолютную пустоту – сегодня никого, и завтра, и, значит, долго еще изводить себя. Воспоминаниями. Бесплотными, бестелесными... Сейчас сделать шаг, вдохнуть сухой воздух, безжизненный; а ведь она живет здесь – здесь просыпается, здесь отражается в зеркале, здесь кофе и приходит по вечерам сюда же... почему безжизненный? Она сама еще не определилась, кем себя считать. Вполне возможно, что также воспоминанием. В таком случае, о чем? Никак не могла вспомнить. И как, наконец, можно стать воспоминанием собственной жизни, тенью в своем доме? Легко ступая, она прошла в первую же комнату. Та оказалась гостиной с фотографиями на стенах и мухой на потолке, пепел просыпался на ковер, а маленькая софа буквально потонула под тяжестью вырванных журнальных картинок. Там еще была старая афиша «La Dolce Vita» и грязный цветок в желтом кофейнике. Свет она не зажгла, и потому, случайно споткнувшись о небольшой стеклянный столик, с которого, видимо, что-то с шумом упало на пол (впоследствии выяснилось, что это были ее альбомы по искусству), еще несколько минут простояла в нерешительности... Выйдя из оцепенения, оглядевшись, как бы желая убедиться, что своим неуклюжим полуслепым жестом она никого ненароком не потревожила, ощупью двинулась далее. В полной темноте в этой странной, неизвестной квартире, досконально изученной за те четырнадцать месяцев, что она здесь живет. Она недолго петляла где-то в беспросветной глубине коридорных и комнатных пространств, пока не нащупала ручку двери, повернув которую, впрочем, не сразу отважилась войти внутрь. Наоборот, она попыталась сначала мысленно воссоздать облик комнаты, своей комнаты, дабы еще раз убедиться в том, что это действительно ее квартира и никакой ошибки здесь быть не может... она ведь ничего вокруг не узнавала... такая игра с собственной памятью, и ей бы это наверняка удалось, но что-то внутри вдруг дало сбой... почему-то именно сегодня. Нервы были натянуты до предела, провода. Кажется, кровать... там, вероятно, и зеркало есть... Она вся напряглась, пытаясь сдержаться, почувствовав, что слезы подходят к горлу, и тупая, острейшая, недавно зародившаяся где-то в ней, в подсознании, боль уже завладела ею целиком и ждет своего часа. В последнюю секунду, самым жалким образом пытаясь предотвратить казавшееся неизбежным, более того, закономерным, она сжала кулаки, впившись ногтями в ладонь так, что даже не сразу заметила кровь. В бессильной злобе, в необъяснимом приступе ненависти к себе и непередаваемой тоске, такой, какой никто, казалось бы, не испытывал, медленно осела на пол и заплакала. ... Очнувшись – должно быть, прошло уже много времени – она поняла, что все еще лежит на полу и каким-то непостижимым образом держится за ручку двери. Тонкие белые пальцы – она, кажется, не узнавала себя, не отождествляла еще свое тело с этой болезненно искривленной рукой, фарфоровой, что по артериям и венам вела в некое пространство, отгороженное от всех остальных тремя стенами и одним окном. И что, сумасшествие? В собственных м3 так глупо заблудиться. И ей вдруг так отчаянно захотелось потеряться, потерять себя, где-нибудь потерять!.. Волосы рассыпались. Она с трудом поднялась – бил озноб. Рука чужая и не слушалась поначалу. И было почему-то очень страшно, как в предчувствии чего-то, что она не смогла бы пережить. Сердце сейчас находилось где угодно, только не там, где ему положено. Кажется, она есть пульсирующий жизненный орган. «Нет, я боль; она почему-то растеклась по всему телу, заполнила целиком собой, не знаю...» А между тем, так быть не должно, и она это сознавала. Больным сознанием. Боже мой! Дверь, стена легко поддалась ей, расступилась, открылась во всем. Горькая правда – три стены, одно окно. Господи, как можно так любить, так можно только ненавидеть, неистово, сумасбродно. Господи, сжечь себя, изнутри, все, все уничтожить, убить. Слезы. Ноги стали ватными, тело существовало теперь отдельно, отделимо от нее. Так кем же тогда была она в тот момент? Она сходила с ума, она была электрический разряд, коим возвращают к жизни коматозников. Разница в том, что живого человека электричество может убить, а в ней уже слабо, но теплилась жизнь. Ей все открылось, она все вспомнила: то, к чему шла так долго, целую вечность, почти четырнадцать месяцев, почти всю жизнь. «Господи, не дай мне умереть!» Именно сейчас, когда, возможно, от одного неосторожного удара сердца все закончится, перестанет существовать, все исчезнет!.. В какой-то момент она вполне ясно ощутила, что ее уже больше нет, нет более такого, что тяготило ее на протяжении долгих месяцев, а может и лет... Просто нет больше ее, нет физической оболочки, запястья уже слабо пульсируют кровью, и эта мысль, ее нельзя терять как последний шанс помешанного, что протянул руку за кубиком льда в надежде, что с его помощью хоть охладит свой разгоряченный разум... она, она тоже исчезает, ее разум в свою очередь заполняет собой потолок, забивается в щели, распят на полу комнаты. Она скоро поняла, что окончательно растворилась, но не здесь, а где-то в еще более чуждом ей теле, теле чужого человека. Как можно любить чужого человека? Все разом нахлынуло, захлестнуло. Она мигом пришла в себя, новое чувство застало ее в тот момент, когда она, словно грубо склеенное зеркало, не более минуты провисевшее на старом месте, готовится вновь разбиться вдребезги, на сей раз уже окончательно. Ее задавила собственная боль, и неожиданно все стало таким ясным, таким очевидным, и даже странно – ну как она раньше этого не понимала, как? Теперь под тяжестью этого, таившего в себе поистине смертоносную силу, сознания, не выдержав, с трудом сделав пару шагов, рухнула на кровать, свою кровать. Но все вокруг уже было чужое – его. Все вокруг уже давно принадлежало только одному человеку. Все было его, и она уже была не она, и так одиноко, Господи! Ведь если любить, если любишь, исчезаешь, растворяешься. Она бы вышла в окно, но он завладел ее мозгом, ее кровью, не оставил ей ни собственных мыслей, ни чувств. Заставил отречься от всего на свете; дышать им было и страшно, и вместе с тем желанно, но новый воздух сжимал ей грудь, нещадно ломая ребра. Он заставлял ее ходить по карнизу, и даже сейчас она была в его власти – балансировала, словно по канату, но вот лежит распластанная, и в застывшем, остекляннелом взгляде, на губах тихое блаженство и сладковатый, терпкий вкус небытия. ... Тринадцать месяцев, четыре недели назад его не стало. Целые дни она думала, почему здесь одна, без него. Думала, что если бы он пришел, просто взял ее за руку, она пошла бы за ним куда угодно. В тот вечер в окне отражался уличный фонарь и всего одна звезда, слабое мерцание, блик через сотни световых лет. Он непозволительно задерживался... |