
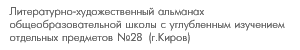
 |
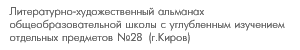 |
||
Литературный Олимп Алексей Кошкин, выпускник школы № 28, студент КГМА
Житие Грегора Менделя (Окончание. Начало в №№26-28)
Часть III
Еt mors ita* Скитальческое блаженство
Скучен осенний Ватикан… Потоки аморфной влаги с шумом несутся по мостовым мимо папского дворца, вековых цитаделей и одинаково одетых смиренно скучающих людей. Время от времени звуки проезжих колесниц напоминают о былых жизнелюбивых выходках центурионов и патрициев, но вскоре все опять замолкает, и молчание это способны нарушить разве что постные звуки колоколов на готических звонницах. Черный капюшон, покрывавший буйную главу, увы, давно намок и причиняя более неудобство, чем защищал от небесной влаги. По одной из центральных улиц проехал навороченный Ford (вот что еще с недавних пор стало нарушать тишину осеннего города-государства) и провез в своем чреве тучное тело кардинал-пресвитера-настоятеля собора Св. Петра. Из-под колес автомобиля взметнуло струи грязной воды, которые, угодив прямо в человека в черном капюшоне, заставили последнего отнестись к водителю и пассажиру с такими словами: - Memento mori, козлищи. Очистившись, насколько это было можно, человек уныло поправил канатоподобную вервь, опоясывающую чресла поверх доминиканской скитальческой рясы. В этот момент где-то во внутреннем кармане швейцарский брегет запищал Марсельезу – стало быть полдень. Уже полчаса длится все это безобразие с дождем, сыростью и этим непунктуальным и наверняка бестолковым семинаристом, который должен забрать у человека в черном капюшоне 200 прокламаций на тему засилия буржуазной идеологии в современном мире, набранных красивым готическим шрифтом по-латыни на подпольном станке и размноженных на ризографе, для дальнейшего распространения среди по большей части индифирентно настроенной студенческой массы… - А, вот и эта образина… - непременно сказал бы человек, если бы не был доминиканцем-молчальником, которым дозволяется произносить только приветствие в виде вышеозначенного Memento mori и читать вслух молитвословия 9-го часа… Человек жестом поприветствовал студента и вдруг, передавая ему кейс с прокламациями, почувствовал на своих запястьях щелчок наручников… Студент исчез за поворотом, и перед глазами доминиканца возник вход, в известный всему Ватикану, каземат, в котором (по преданию) проводил свои последние дни Савонарола… Естественно, что предание бессовестно лгало, хотя помещение, изображающее земную модель чистилища, вряд ли окажется не овеянным сладостным дымом фантастики. Сопровождающие официальные лица закрыли за собой массивную дверь, и сырая тьма с одиночеством поглотили несчастного молчальника, казалось, навсегда. Время потянулось медленно и мучительно, однако, когда брегет пропищал 1830, дверь отворилась, и те же официальные мордовороты повели монаха на допрос… Интересно, чего можно добиться на допросе от несущего на своих раменах обет молчания? Разве что набившего оскомину memento… И вправду, не настолько безмозглы были духоносные мужи иезуитских спецслужб: поэтому в подвале каземата наспех был сколочен судебный совещательный орган, наделенный евангельским «вязать и решить», но только в несколько ином смысле…
* И такая смерть (лат.) * * *
- Пий Аврелий, по прозвищу «Блаженный», за организацию преступного сборища с целью подрыва авторитета Св. Престола, за политическую лояльность марксистам Вы приговариваетесь к пожизненному поселению в Доминиканский монастырь в пустыне Сахара в чине простого монаха с невозможностью занимать хозяйственные и административные должности в штатном расписании Ордена… Amen. Несчастный Пий Аврелий перебирал дубовые четки и в душе проклинал Карла Маркса и все и вся… Его ноздри уже как будто щекотал аллергенный сахарский песок, и сабля шального бедуина будто бы вспарывала истощенное работой на финиковых плантациях чрево… Как вдруг в свет одинокого факела вошел ни кто иной, как наш общий знакомый Лавруша отличник… Аббат Лаврентий эффектно щелкнул тремя перстами правой руки и все неправедные судьи как будто испарились. - Брат мой, - худо твое дело, я бы даже сказал дело-дрянь… Я могу тебе помочь, но не сразу… Пока тебе все же предстоит подзагореть на Берегу Слоновой Кости. Но – слово иезуита – я сам найду тебя и вытащу, да только и ты мне поможешь, - непринужденно и артистично, как Аль Пачино, продекламировал Хмырь. Малый осколок надежды ранил безнадежное сердце Пия Аврелия, и он дал знак Лавруше, что согласен на все. Через неделю голландский сухогруз, в трюме, полном крыс и мешков с алебастром, вез Блаженного осваивать азы иноческого пустынножительства. Однако Пию было свойственно, пожалуй, все, кроме уныния. Его многоглаголивая душа, смиренная молчащими устами даже была в какой-то мере рада сложившимся обстоятельствам… Во-первых – конец ненавистной политике и прокламациям; во-вторых – перспектива скорого освобождения с помощью Лавруши и, в-третьих – на верхней палубе в тюке с макаронами его сопровождала, подобно жене декабриста, та самая Аннет – истеричная и веретенообразная особа, тем не менее, имевшая в своей душе живой огонь любви к Блаженному…
* * * Любви хватило взбалмошной Аннет и для того, чтобы преодолеть восьмидневный путь от побережья до бедуинского селения рядом с монастырем. Пий Аврелий, иссушенный пустынным зноем, непрестанно дивясь самоотвержению аскезы, вошел в каменные развалины, перед которыми возвышалась горка бедуинских черепов, долженствовавшая изображать величие и несокрушимость цитадели мощи духа. Картину могущественности дополнял монах-привратник, у которого через расстегнутую сутану на груди была видна татуировка «Экибастуз 65», а с правого плеча свисал АК-47. Выплюнув «Беломор», брат-доминиканец промолвил с хрипотцой: - Ну чё, memento?! - Да уж – mori, - вздохнул Пий Аврелий, размышляя о контрастности своего бытия. Рим, конечно, пал в разврате и низменности, да и витавший по Европе «бродячий призрак коммунизма» идилличности не добавлял, однако глаз, привыкший к созерцанию величавости дворцов и соборов, мог бы и пожалеть, что зряч, при взоре на три ряда бараков ГУЛАГовского типа, вышку с пулеметчиком в центре и мотки колючки по периметру; если бы это был глаз какого-нибудь слабохарактерного аристократа, но не Блаженного, основным жизненным кредом которого было: Жизнь дана мне для ее созерцания в трех плоскостях, и что от нее ожидать – не мое собачье дело».
* * * Делом огромных и злых сторожевых собак была охрана монастыря СР №313/11 от самих подвизающихся на иноческой ниве проштрафившися в особо крупных размерах, тяжелых на руку и политических отцов-доминиканцев. Монастырь жил не за счет фиников, в этом предчувствия обманули Пия Аврелия, а добычей алмазов на пустынных алмазных копях. Братия много и тяжко трудилась, что позволяло порой преподобным подвижникам за энные суммы заказывать на Рождество арктический айсберг и всем весело кататься на лыжах… А еще братия не любила «политических». Те просто не допускались к копям на 100 метров, но зато участь большинства политдисидентов была одна: чистить сортиры, мыть пол и носить воду на все 150 душ. И лишь особо избранные могли быть допущены на кухню или местную монастырскую больничку. Видимо в число особо избранных Пий не входил… И дни казались годами, а недели – вечностями. С Аннет виделись редко, только по большим праздникам, когда абсолютно все учреждение строгого устава банально напивалось. И тогда он – циник, идеалист и созерцатель, свято блюдя обет молчания, немилостно рыдал на груди своей «декабристки» и ждал прихода помощи с холодного, но цивилизованного севера, оттуда, где так золотист закат над Римом, а над Прагою так густ и сладок утренний раннеосенний туман.
* * * В это безжалостное холодное утро густой, как отборная плоть упитанных тельцов, туман над Прагой навеял мне по пробуждении мысль о том, что эта чокнутая скачка жизни земной сделала меня безрелигиозным очкастым неврастеником нужным этому миру для идеи… и не более того. Даже когда пришел придурковатый Вася-келейник и сказал, что умер Ося, я, сперва не поняв о чем речь, пробормотал про себя самодостаточный эпитет: «очкастый». - Как, когда, - опомнилось мое земное естество. - Сегодня ночью. За Вами прислали экипаж, ехать в морг. Телеграмму Папе уже отбили. Похороны планируют в четверг. Отпевание в кафедральном… Философичный санитар с поседевшим от хиппарской юности, размеренной молодости и исподволь медицинской зрелости жидким хвостиком волос с сигаретой в зубах, ароматизировавшей тяжесть атмосферы секционного зала, пихнув меня запанибратски в бок, тихо сказал что-то ницшеанское о том, что мол какие люди умирают, выдал какой-то излишний бланк и более для проформы спросил, не нужно ли макияжа. С каким-то жутким сладковатым привкусом во рту (как от поминальной окрошки или овсяного киселя) я направился в епархию вкусить деловитого официоза, дабы не афишировать своего скорбного гражданского малодушия по поводу кончины своего старого доброго друга и учителя. - Ваше Высокопреподобие (ко мне теперь стали почему-то так обращаться), берегитесь Лаврушиных демаршей. - Да что… теперь, все пустое… вечная память. Братцы, вы уж здесь как-нибудь… Известите что ли родственников… Мне надо написать надгробную речь. Я так устал, - обреченно вздохнул во мне какой-то стареющий и жутко поникший Мендель. У себя в келье я принял успокоительное, закурил какую-то смолистую папироску и выбрал в табельном сборнике подходящую надгробную речь. Однако, почему-то я никак не мог ощутить, что это может быть началом нового этапа в моей биографии. И еще меньше думалось мне о каких-то там демаршах какого-то иезуитского свинтуса Лаврушки, который по последним данным банкротил иерусалимскую миссию…
* * * Наместник-предстоятель иерусалимской миссии, костлявый, как мультяшный Кощей, старик-епископ наутро вторника служил благодарственную мессу об избавлении от Хмыря, ибо гроза всего благонамеренного человечества, получив какую-то телеграмму из Праги, тотчас же сел в Лэндровер и уехал куда-то прямо в пустыню, будто бы и никогда его здесь не бывало. * * * Груда бедуинских черепов при вьезде в СР № 313/11, густо населенная ящерицами, сусликами и ужами, жившими в полостях, где раньше генерировались нервные импульсы последователей Магомета, в вечерний час вторника отливала закатной медью и нисколько не удивилась мощи и скорости Лаврушкина лэндровера, на борт которого уже была взята идейная и притихшая за время пустынного жития Аннет. После недолгого разговора с настоятелем обители молчальников в стальное чрево чуда техники вошел и Пий Аврелий, про себя славивший Бога о великом избавлении… - Ребята, у вас еще будет время дать волю чувствам… Блаженный, я свое слово сдержал – теперь мои условия: в богохранимом городе Праге только что умер архиепископ, и на его кафедру по протекции хотят возвести еретика, основоположника фундаментального наукообразного учения – твоего соседа по келье в общаге – Менделя. Задача любого здравомыслящего христианина этому воспрепятствовать… Вот тебе 50 миллиграмм тетаноспазмина (столбнячный токсин), самолет, на котором вы сможете добраться до Праги… 300 тысяч green, новые паспорта и свобода… Но только после смерти еретика! – с ухмылкой закончил свою пафосную речь Хмырь. Пий Аврелий, сотрясаясь, рыдал, бледнея и хватаясь за голову, в которой, конечно же, было истинное и трезвое понимание всей подлости, низости и скверности происходящего… Но жизнь – пустыня, и правят в ней нелепые злые случайности и безмерная человеческая слабость… Так как Хмырь излагал свои условия на латыни, Аннет, хоть и была рядом, ничего не поняла по сути, а только капала в рюмку корвалол и поила им бледного Пия Аврелия, думая, что это все от переменившихся обстоятельств. Уже заполночь, надев пилотские шлемы, Блаженный и Аннет летели в Европу совершать преступление, о котором никому не суждено узнать…
* * * После отпевания, похорон и поминок по преосвященному Иосифу я зверски устал и уже было готовился отойти ко сну, как в дверь мою постучали. Измождено-обреченное Me mento… вместо приветствия, сухие глаза и… Господи, Пий Аврелий, садись, брат, мы тут в трауре… Эразм-то теперь – Папа; я буду пражским архиереем, воплощу в жизнь мечту Годзиллы… Помнишь? Эх, ты, аскеза ходячая. Ну че ты такой кислый, давай выпьем, я устал, а ты, наверное, еще больше, а? Пий достал из чемодана какую-то антикварного вида бутыль, на которой было готически нацарапано «Африканский монах», налил мне, а сам показал, что ни-ни. - Твое здоровье… - и я опрокинул в себя стакан красной сладковатой жидкости. - Прости, Гришаня, через минуту ты умрешь от спазма дыхательной мускулатуры… - А Блаженный заговорил… Кхе, кхе… Но… за что? - Это все Хмырь, прости, я бы никогда, но все скверно, хочется свободы, а ты и так обретешь бессмертную память и Там и здесь. Прощай… Если можешь! - Детский лепет… Кхе… Мутно, бессознательно, хотелось жить, любить свет и непонятность Кэтрин, сказать людям о законах наследственности, но все поглотили клонические судороги и арктический холод небытия. - Господи, прими мя грешного… Кхе… Прощаю всем… И тебе, брат, прощаю.
* * * В ту же ночь Хмырь был арестован. Пий и Аннет улетели на самолете куда-то в Сибирь, где холода… Пий работал в антропологической экспедиции, а Аннет – Баба Нюра сносила его беспробудное пьянство, смерть от цирроза печени в 56 лет, да еще рассказывала новым знакомым о теплой Африке и зарождении марксизма в Европе.
* * * Святейший Эразм, рукоположив нового епископа на пражскую кафедру, решил на все плюнуть и удалился в затвор где-то в пустынях Аравии, снискав там славу сурового аскета и великого праведника. А на монастырском кладбище лежали под гранитным крестом останки отца классической генетики, горохового математика Грегора Менделя. К этому месту часто приезжала американка с пшеничными волосами и апокалиптически непонятными глазами всегда полными слез…
От автора Не сочтите за штамп, но все персонажи данного произведения вымышлены и любые сходства с реальными людьми не стоит принимать близко к сердцу. И пусть каждый хранит в нем (в сердце) ту память о Грегоре Менделе, которая ему ближе по духу. Я же благодарю всех читателей за долгое и терпеливое внимание к тексту, который не является ни антирелигиозным, ни антисемитским и не антикатолическим, а просто выражает уважение автора к исследователям, преобразователям и созерцателям этой многообразной и удивительной жизни… 08.08.02 – 9.01.03 01:56
|